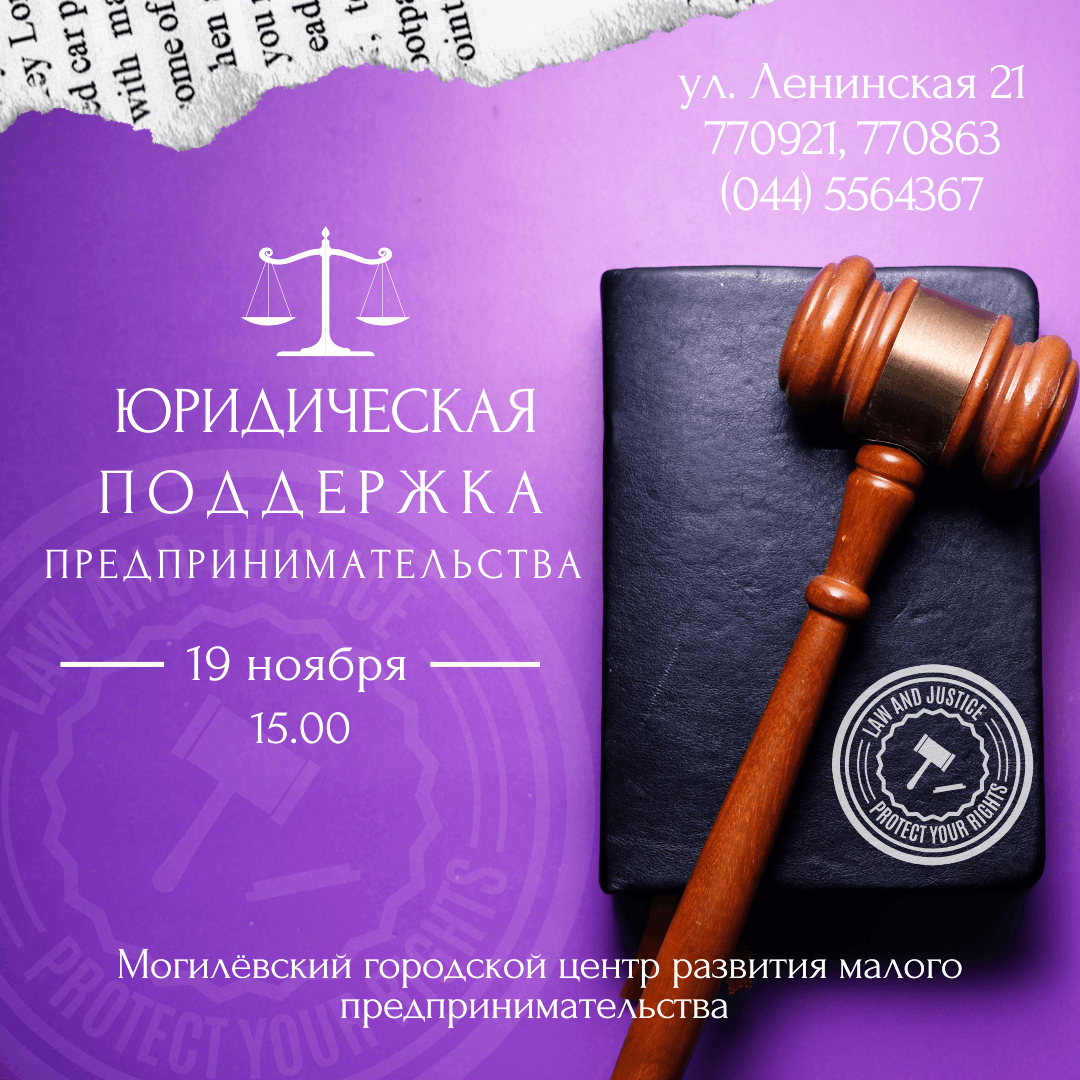Надежда Надеждина. Это город моего детства.

Надежда Августиновна Надеждина родилась в 1905 году в Могилеве в учительской семье. С 1921 года жила в Москве, училась в Литературно-художественном институте, созданном и возглавляемом В. Я. Брюсовым. Журналист, поэтесса, прозаик. В 1950 году арестована, по статье 58-10 осуждена и до 1956 года находилась в лагере в Потьме. В 1956 году реабилитирована. Умерла 14 октября 1992 года. Н. А. Надеждина - автор популярных в 1960-е - 1980-е годы детских повестей и книг на научно-популярные темы.
Могилев моего детства — провинциальный город, который еще не задымила индустрия, не озвучила цивилизация. Его улицам еще не знакомы скрежет тормозов, шипение шин, гудки автомобилей. Их тишину нарушают лишь дробь каблуков пешеходов и цоканье лошадиных копыт. Лошадей понукают извозчики в толстых синих армяках. По рельсам, проложенным по главной улице, две гнедые кобылы тащат вагончик под названием «конка». Рыжая кобылка у водовоза, старого еврея, который привозит нам с водокачки воду. Зимой оледенелый, гремящий повисшими на его одежде сосульками, он кажется нам сказочным существом из волшебного царства Снежной королевы.
Множество крохотных еврейских лавочек, и каждая мини-универмаг, где свежий хлеб пахнет тмином, шуршат подхваченные совком зернышки гречневой крупы, свернувшись в кольца, дремлют колбасы, где на полу стоит плетеная корзинка с сине-лиловыми венгерскими сливами.
Есть в городе каменные здания: губернаторский дом и драматический театр, собор, отстроенный в память посещения Могилева Екатериной Второй, церкви, мужская и женская гимназии. Большинство жилых домов, в том числе и наш — деревянные, одноэтажные.
На дверной притолоке черный крестик, чтобы в дом не вошло несчастье. Он нанесен не краской, а пламенем свечи, зажженной под звон колокола в Страстной четверг, когда в церкви читают двенадцать Евангелий. Святой огонь в фонарике или просто в ладонях надо донести до дома.
Вечером при уютном свете лампы отец читает нам рассказы Куприна и Чехова. Детям разрешено пользоваться библиотекой и самим. Неважно, что ребенок не все поймет, хорошая книга плохому не научит. Это я знаю по себе, научившись читать в пять лет. В нашей домашней библиотеке были и детские книги, и классика, и новинки: Ибсен, Гамсун, Гауптман, Метерлинк, и журналы, среди них и «Мир искусства», которые привили мне любовь к живописи.
Днепр, тогда еще полноводный, разделяет город на две части. Мы живем далеко от реки, в районе вокзала, но два раза в году обязательно ходим в гости к Днепру. Зимой мама водит нас «под Николая»: в декабрьский день в низовье Днепра на площадь возле церкви Святого Николая съезжаются на ярмарку крестьяне из окрестных деревень. На ярмарке продаются бесхитростные игрушки-самоделки: вырезанные из дерева человечки, которые раскачиваются на трапециях, глиняные уточки-свистульки, ковшики, крынки и народное лакомство — маковники. Тогда еще не боялись наркомании, и на каждом крестьянском огороде рос мак.
Мы ходим к Днепру и весной, но уже без мамы, своей ребячьей компанией. Ветер хлещет нас по лицу, раздувает наши пальтишки, но мы подолгу стоим на мосту. Весна для нас не весна, если мы не видели ледоход. Почему нас завораживало это величественное зрелище? Это был еще смутно осознанный первый урок свободы, который давала нам порвавшая свои ледяные оковы, буйно разлившаяся река.
Многие мои детские воспоминания связаны с запахами. Зимой нежный порхающий запах снежинок и густой смолистый запах рождественской елки, мохнатой, высокой, почти до потолка. Небьющиеся игрушки-картонажи, хлопушки, позолоченные грецкие орехи мы, дети, развешиваем сами. Стеклянными блестящими шариками и бусами ведает отец. Он же торжественно зажигает на елке красные, желтые, синие стеариновые свечи.
Сейчас домашнюю елку через два-три дня после Нового года выбрасывают на помойку. В моем детстве этот пахнущий хвоей ребячий праздник длился с Рождества до Крещения. То к нам гости, то мы к кому-либо в гости на елку.
Нас, троих девочек, чтоб не простудились в сильный мороз, мама везет на елку на извозчике, как котят в мешке. Посадив нас тесно друг к другу на расстеленный на сиденье плед, мама узлом связывает его концы над нашими головами. Но все же в щелку можно увидеть в вечернем небе рождественскую звезду.
Запах ранней весны — запах гиацинтов. Глиняные горшочки с розовыми и лиловыми гиацинтами украшают пасхальный стол, к краю скатерти которого приколота зеленая ветка березы.
Богачами нас не назовешь. Есть народная поговорка: «Один с сошкой и семеро с ложкой». Так и у нас — одно отцовское учительское жалованье и семь едоков: сам папа, мама и пятеро ребят. Но на Пасху будут приходить с поздравлениями и учителя — папины коллеги, и просто знакомые, и дело чести каждой хозяйки, чтобы пасхальный стол был и обилен, и красив. На столе — целый окорок, две творожные пасхи с вытесненными на них буквами ХВ (Христос воскресе), золотистые от прибавленного в тесто шафрана куличи, крашеные яйца, по польскому образцу мазурки(cладкие сдобные булочки пекущиеся к Пасхе) : королевская, марципанная, бакалейная.
Повиснув на заборе, я просматриваю улицу. Если к нашему дому приближается гость-«губошлеп», я прячусь, чтобы с ним не христосоваться. Нельзя отказаться христосоваться, но противно трижды целоваться с тем, у кого толстые мокрые губы.
Запах лета — сладкий жужжащий запах цветущих лип. В трех верстах от города помещичья усадьба Межегорье. Там в просторном деревянном доме на лето сдаются комнаты дачникам. Самую большую комнату обычно занимает наша семья. Окна дома выходят во фруктовый сад. Его огораживают с севера высокие старые липы. Над их цветами жужжит столько пчел, что кажется, само дерево гудит, поет вместе с пчелами песню меда.
Запах осени — прохладный запах яблока. Знаменитая могилевская антоновка — крупное, зеленовато-желтое яблоко, сквозь кожицу которого проступают янтарные капельки сока. Главное отличие белорусской деревни от русской — садик перед каждой хатой. Эта народная традиция прижилась и в городе. И в окно нашего дома заглядывала яблоневая ветка. И у нас возле дома — груша-бессемянка, две старые яблони и пять молодых. Каждый раз в. честь рождения ребенка папа сажал деревце. У забора две грядки — папа первый в городе стал сажать помидоры. И посреди палисадника клумбы с цветами: крокусы, разбитое сердце, пионы, лилии, розы.
В этом маленьком палисаднике во мне пробудилось, окрепло и прошло через всю мою жизнь одно из самых глубинных, унаследованных от предков чувств — любовь к земле. И сейчас, когда я живу в центре Москвы на асфальте, каждую весну меня охватывает тоска: негде мне сажать, нечего сеять, не увижу я, как росток, разгибаясь, зеленым затылком пробивает себе путь к свету. В детстве старшие сестры помогали маме на кухне по хозяйству, а я бежала в палисадник, где проводил свой досуг отец. Он научил меня понимать молчаливый разговор листьев, показал, как на ощупь спрашивать землю, поспела ли она, готова ли к севу.
Да и во многом другом я была папина дочка. Меня, третью девочку в семье, назвали Надеждой в надежде на рождение сына. Через пять лет это сбылось, но, пока брат не подрос, я была у папы за сына. В куклы я не играла, лазила по деревьям и крышам, дружила, а когда и дралась с мальчишками, вела себя по-мальчишечьи.
Меня, единственную из дочек, папа брал на вечернее представление в цирк. Цирк приезжал в наш город каждое лето. На Сенной площади — всего квартал от нашего дома — был построен для цирка круглый деревянный балаган.
Папу интересовала борьба, тогда ее называли «французской». А меня - лошади. Подружившись с цирковыми мальчишками, я стала бывать в цирке днем на репетициях и в конюшнях. Сердце мое замирало, когда лошадь, покосившись на меня черным выпуклым глазом, осторожно ласковыми губами брала сахар у меня с ладошки.
Но больше всего меня восхищали воздушные гимнасты в расшитых блестками трико, которые под куполом перелетали с трапеции на трапецию. Мне хотелось быть такой же блестящей и смелой, как они.
В восемь лет я бы убежала вместе с цирком, если бы не расшиблась канатоходка, мать моего циркового приятеля, и он перед отъездом не зашел, как было договорено, за мной.
Я себя утешала: ничего, убегу на следующее лето. Но больше в Могилев цирк не приезжал, потому что началась война.
Политика тогда еще не внедрилась в детскую жизнь, и известие о том, что царь отрекся от престола, мы, ребята, восприняли равнодушно. Никто нам не объяснил, хорошо это или плохо. А вот что война — плохо, нам не надо было объяснять, мы это хорошо знали сами.
Война, перерастая в гражданскую, никак не кончалась. Чьи только солдатские сапоги не топтали многострадальную белорусскую землю: немецкие, польские, красноармейские. Бывало, что до Днепра в городе одна власть, а за Днепром — другая. Конница стравливала крестьянские покосы, вытаптывались поля, на которых созревал хлеб, разорялись деревни, в город пришел голод.
Осенью в школе 2-й ступени начались занятия.Занятия велись по-новому: без классных дам, без Закона Божия, без обязательной для мужских гимназий латыни. Мальчишек смешали с девчонками, любовные записки писались чаще, чем диктанты. Да о какой учебе можно было говорить, если классы не отапливались; зимой, шмыгая носами, мы сидели за партами в шубах.
За два года по истории дальше Древних Греции и Рима, по геометрии — дальше равенства треугольников мы не продвинулись. Зато кипела общественная работа: выборы в учкомы, собрания, на которых в присутствии учеников проходила «чистка» учителей.
Мне так все это надоело, что, подготовившись за лето, я сдала экзамен экстерном и распрощалась со школой. Война кончилась, но в Могилеве еще стояла 16-я армия. При ней, чтобы бывшие бойцы могли пополнить знания и проявить свои способности, было организовано уникальное учебное заведение — Красноармейский университет, сокращенно КРУНТ. На его театральное отделение принимали городских девушек. Если в детстве я чуть было не убежала с цирком, то теперь я хотела быть актрисой. И я, и моя закадычная подружка Зойка стали студентами КРУНТа.
С холодом мы не расстались и в КРУНТе. Перед выходом на сцену с трудом можно было растереть на лице грим. Но еще холодней было зимней ночью в маминой плюшевой кофте (шинелей девчонкам не давали) стоять часовым у склада с винтовкой, обращаться с которой нас не научили. В одну морозную ночь при проверке часовой не был обнаружен. Зойка укрылась погреться в подъезде. После этого нас из часовых разжаловали, стали посылать на кухню чистить картошку. Но все равно мы получали красноармейский паек — мороженую конину.
Кроме того мы прирабатывали статистами в городском театре. Пять миллионов за выход - тогдашняя цена коробка спичек. На одной из пьес мне надо было без слов изображать шансонетку. Кто такие шансонетки, я не представляла. Режиссер хотел, чтобы я танцевала на столе, но я отказалась, просто села на стол и болтала ногами.
Учеба в КРУНТе продолжалась недолго, всего полгода. Моей дипломной работой была роль Насти в пьесе Горького «На дне». Но самые свои лучшие роли мы с Зойкой сыграли на вокзале, чтобы пробиться на московский поезд, в вагон, по потолку которого ползали вши. С дипломами театральных инструкторов мы прибыли в Москву, чтобы получить назначение в какую-нибудь воинскую часть. Но в Москве меня спросили: «А сколько тебе лет, девочка? Поди-ка еще поучись!»
Такие же слова услышала и Зойка. Она вернулась домой, а я осталась. Меня приютила жившая на Арбате тетя Нюша - моя крестная.В шестнадцать лет моя театральная карьера для меня закончилась, началась моя трудовая жизнь.